
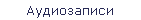

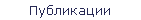

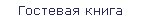
|
|
ПЕВЕЦ
Сейчас его не узнали бы даже те, кто поклонялся ему.
Старик был молод когда-то. Он пел. В те времена
певцы дорожили собственным именем и уважали
зрителей. Они не паясничали под фонограмму, не
давали по пять концертов в день, поскольку
выкладывались в единственном.
Благословенное незапамятное время. Полвека назад.
Впервые я услышал, вероятно, не голос, а эхо. Звуки
поселились во мне задолго до того, как я узнал
первую букву. В доме был патефон, и этот голос
звучал каждый день.
В войну на кухне, под столом, жило доверчивое
существо — курица, она бродила там в потемках. Когда
мы садились за пустой стол, она виновато затихала. Я
стриг бумагу, скатывал шарики и кормил ее. Она
клевала покорно и, повернув голову набок, молча
глядела снизу влажным, обидчивым глазом.
Мы оба обманывали друг друга. Она, кажется, не
снесла ни одного яйца. Ни кормилица, ни иждивенка.
Хотя какой это обман: мы ведь ничем не могли помочь
друг другу.
Так и осталось все вместе, едино — Заполярье, жмых,
хлебные карточки, голос певца.
...Теперь, уже давно, с тех пор как узнал все буквы
алфавита, не могу найти нужную пластинку. Голос
исчез, редкостный, серебряный тенор. Как будто его
никогда не было.
Недавно услышал вдруг: певец — жив. Два поколения
выросло и возмужало с тех пор, ушли, канули в
вечность певцы более молодые. Неужели?
Звоню в пространство — неведомое, чужое. Незнакомый
глухой голос отозвался с того света:
— Ну, что же, приезжайте.
На окраине России, на краю земли — в Магадане
останавливаюсь перед дверью, на медной табличке -
буквы санкт-петербургской вязи:
КОЗИН
Вадим Алексеевич
Две лохматые девицы лет семнадцати искали Москве
улицу Гоголя. Бульвар есть, ответила старая
москвичка, а улицу не знаю. Может, не Гоголя, а
Горького, передумали девицы. Они назвали имя модной
певицы: «Хотим зайти». «Ну, тогда вам на Горького".
- «А вы у нее были?!» — восторженно спросили гостьи
«Я без приглашения не хожу». — «Но мы же сегодня
уезжаем».
За уровень поклонниц, вероятно, отвечают и их
кумиры. Что делать, если модная певица с ужимками
поет Осипа Мандельштама. Поэт божьей милостью,
бессребреник, поэт самой трагической судьбы. Он был
уже обречен, когда писал «Соломинку». Теперь
непорочные строки певица превратила в шумный шлягер,
в конце которого веселые клоуны прыгают через головы
друг друга.
Это то же самое, что сделать частушку из
Твардовского: «Я убит подо Ржевом»...
Очень хороший писатель сказал: если бы Пушкину пела
не Арина Родионовна, а наша эстрадная звезда, он бы
вырос Дантесом. Сочтем это за художественную
гиперболу. Речь о том, что кто-то должен отвечать и
за уровень кумиров.
Пути пересеклись во Владивостоке. По городу
разъезжала и вечерами причаливала к гостиничным
ступеням «Волга», на ветровом стекле которой
красовалась надпись: «Адм. гр. Пугачевой». Ее, то
есть, административная группа. Зачем? Ездить на
красный свет?
В гостинице — у подъезда, на этажах, всюду —
дежурило множество подтянутых милиционеров, парадная
охрана изнывала от безделья, даже честь отдать было
некому, поскольку певица жила на загородной даче, а
здесь, в гостинице, — ее «Адм. гр.»
Бальзак писал когда-то с грустью, что канатоходец и
поэт оплачиваются одной монетой. Нынче нет даже
этого равенства.
...Кажется мне, тогда, в далекую пору, истинные
певцы привлекали, завоевывали — талантом. Вадим
Козин, Изабелла Юрьева, Тамара Церетели, Леонид
Утесов, Клавдия Шульженко
Почему-то сейчас на эстраде чем шумней, тем лучше,
стараются друг друга перекричать. Стало модой
здоровым, сытым молодцам петь дамскими голосами, да
еще гнусавить, да еще подвизгивать. И не только в
том суть, что это — плохо, а и в том, что плохое это
— заимствованное, привозная мода: музыка для ног
заглушает все в пространстве, но во времени, не
столь отдаленном, — услышат ли? Мода изменчива,
самые шумные и слепые поклонники своих кумиров —
самые неверные. Завтра у них будут новые идолы.
...Каждый из того великого уходящего поколения
создавал свой, неповторимый стиль, они не были
подражателями.
Не надо идеализировать, сказал мне с улыбкой
собеседник, разве в той же козинской «Осени» — «Наш
уголок нам никогда не тесен» — нет приторности.
Не знаю, не более чем в сегодняшних дозированных
поцелуях на эскалаторе метро, обрядных, тоже
заимствованных, тоже напрокат, как модный дым на
эстрадной сцене.
Там была подлинность чувств — своих, собственных.
Во Владивостоке, кстати сказать, приобрел я по
случаю пленки с редкими, чистыми записями Козина.
Из-под полы, другого пути, увы, не было.
* * *
Такой талант, и такая странная запутанная судьба.
Вадим Козин родился в 1903 году, в Петербурге, в
богатой купеческой семье. Отец, Алексей Гаврилович,
окончил академию во Франции, занимался коммерцией.
Мать, Вера Владимировна Ильинская, чистокровная
цыганка, пела в хоре. Гостями дома были Анастасия
Вяльцева — подруга матери, Надежда Плевицкая, Юрий
Морфесси — знаменитейшие певцы начала века. Нетрудно
догадаться, в какой атмосфере рос единственный в
семье мальчик, которого окружали семь (!) сестер,
все — младшие.
Смутное воспоминание: его, Вадима, нарядного,
трехлетнего, везут в «Аквариум». На огромной сцене
разбиты шатры, стоят живые лошади, и среди цыган —
тучная женщина, сидя в кресле, поет. Эта женщина,
уже не совсем здоровая, — его двоюродная бабка,
легендарная Варя Панина.
Жизнь повернулась неожиданно и круто. Юношу
исключают из военно-морского училища как сына купца.
Через биржу труда он устраивается в порту грузчиком,
расклеивает по городу концертные афиши. Наконец,
выходит- на сцену рабочего клуба, под рояль, гитары
поет цыганские и бытовые романсы. Его приглашают
лучшие кинотеатры Ленинграда — «Капитолий»,
«Гигант», «Колосс» — петь перед вечерними сеансами.
Успех, слава оказались стремительными и прочными.
«Мой костер», «Газовая косынка», «Всегда и везде за
тобою», «Дружба» («Когда простым и нежным
взором»)... Козин сам пишет песни — «Осень»,
«Любушка», «Забытое танго», «Маша» («Улыбнись, Маша,
ласково взгляни») — эти мелодии распевали всюду.
120 романсов и песен в исполнении Вадима Козина
записали на пластинки. К этому рекорду довоенной
давности до сих пор никто даже не приблизился.
Его грамзаписей, выпускаемых массовыми тиражами,
невозможно было купить.
Перед войной и в войну пластинки пережили трудное
время, их сдавали на переплавку как сырье для
оборонной промышленности. На пластинках же Козина
ставился штамп: «Продаже не подлежит». «Обменный
фонд». Москвич Сергей Павлович Петров, сохранивший
эти пластинки, вспоминает:
— Я Козина услышал в 12 лет, по радио. С тех пор
потерял покой. Обменный фонд — это значит, надо
было, сдать пять битых пластинок, чтобы купить
Козина. Да плюс за козинскую еще, само собой,
заплатить, а она стоила чуть не вдвое дороже. Я в
Марьинском мосторге покупал пластинки и тут же
разбивал о прилавок: целые в обмен не принимали.
Козин долго был единственным, кто не подлежал
продаже, потом уже года через полтора-два добавили к
нему шестерых — Изабеллу Юрьеву, Утесова, Юровскую,
Шульженко, Русланову, Хенкина. Ну, что вы, это был
голос! Его «Осень» еще не записали на пластинку, а
уже толпы осаждали магазины.
Гипнотическая власть певца заключалась и в
необыкновенном по тембру голосе, и в самом стиле
исполнения, сохранившем верность старой песенной
культуре.
Наследственный голос — кровное наследство он
соединил с наследством духовным. Он взял себе
администратором Михаила Васильевича
Басманова-Волынского, старого аристократа,
работавшего с Вяльцевой. В конце тридцатых годов он
разыскал гитариста, аккомпанировавшего еще Варе
Паниной, попросил записаться с ним в паре на
пластинку. Старик, обнаружив, что в студии нет
большой акустической трубы времен его молодости,
расстроился и записываться на современной аппаратуре
отказался. С трудом уговорили на единственный романс
— "Жалобно стонет ветер осенний"...
Они сотворили маленький шедевр: после романса, без
паузы полилась «Цыганская венгерка» гитариста: так
исполнялось при Варе Паниной. Те, кто записывал
романс, пережили небесные минуты.
* * *
Аккомпаниаторами Козина почти всегда были пианисты —
вначале Аркадий Покрасс и Михаил Воловац, а затем,
надолго — Давид Ашкенази, игравший прежде в
провинции, в ресторанном оркестре (он пришел к певцу
в гостиницу, попросил его прослушать, и, несмотря на
ресторанную громкость исполнения, Козин взялся с ним
работать). На сцену они стремительно выходили с
противоположных сторон, и без объявления номера
Ашкенази брал первые аккорды.
Вспоминает еще одна поклонница, тоже москвичка,
Лидия Васильевна Поникарова:
— Каждый концерт — триумф! Я, пятнадцатилетняя
девчонка, экономила деньги на школьных завтраках. 15
дней не позавтракаю — билет на Козина.
Останавливался он в лучших московских гостиницах, а
шил ему лучший московский мастер, Смирнов, кажется.
Одеваться он любил и умел. Из гостиницы выходит —
концертные брюки через руку несет, бережно так,
чтобы не помять. На сцену выходит — вся сцена сразу
освещается, и на пиджаке, на углу борта —
бриллиантовая звезда! Элегантный, строгий, ни одного
лишнего движения. Никогда со зрителем не заигрывал.
О, как же мы все были влюблены в него! Но подойти к
нему, обратить на себя внимание — что вы, мы же
слушали его, как Бога. Из гостиницы выходит его
администратор, спрашивает: не видели Вадима
Алексеевича? Мы говорили: он в магазин пошел,
напротив. А в магазине уже нет его, там отвечают:
туда-то пошел. Все все знали, но — была дистанция.
Однажды только, знаете, как получилось? Мы с
подругой поехали на его концерт в Орехово-Зуево. А
после концерта — ливень, стоим у выхода, и
администратор нас узнал, что-то сказал Вадиму
Алексеевичу, он спросил: «Сколько же вам лет?» Мы
соврали: «Восемнадцать». Он улыбнулся: «Садитесь в
мою машину». Мы думали, он до вокзала подбросит, а
он до Москвы довез. Больше я его никогда не видела.
Началась война, и я на продовольственную карточку
вместо сахара попросила конфет, кажется, «Мишка», и,
кажется, дали шесть штук. И я маме сказала: сейчас
артистам тоже голодно, давай пошлем конфеты Козину.
Потом вдруг получаю письмо из Горького... от Вадима
Алексеевича. С гастролей. И благодарит, и ругает. А
в конце: сидим с артистами в гостинице, смотрим на
твои конфеты и думаем, что ты — уже взрослая... И
скоро я на фронт ушла, госпитальной сестрой.
Людмила Стоянова, пианистка Мосэстрады:
— 22 июня мы, несколько артистов, слушали Молотова.
Вадим Алексеевич тогда же, сразу, сказал: все, надо
срочно создавать фронтовые бригады.
Козин выступает в блокированном Ленинграде; в
осажденном Севастополе, перед моряками Мурманска. На
Калининском фронте он отправился на передовую, сбоку
ударили немцы, машину опрокинуло взрывной волной,
разбросало программки выступлений. Генерал,
сопровождавший артиста, с трудом пришел в себя: он
знал певца очень любит Верховный Главнокомандующий.
Нетрудно представить судьбу певца, судьбу цыгана,
попади он к фашистам. Тем более немцы его знали.
Наиболее популярной и на фронте, и в тылу была
исполняемая Козиным «Песня о двух друзьях» («А ну-к
дай жизни, Калуга! Ходи веселей, Кострома»).
Музыковед, фронтовик, Л. Данилевич вспоминает в
одной из книг, как под Смоленском в бой были брошены
духовой оркестр воинской части вместе с
джаз-ансамблем. Рядом с полем боя, бок о бок с теми,
кто дрался в рукопашной: музыканты играли песню о
двух друзьях. Вместе с участниками боя они получали
потом боевые награды.
Почему-то, когда мы говорим о песнях патриотических,
массовых, то имеем в виду гимны, которые можно петь
миллионным хором, или марши, которые хорошо ложатся
под ногу. А если лирическая песня предназначена
каждому из этих миллионов в отдельности, если она
ложится на душу, а не под ногу? Козинские «Любушка»
или «Осень» разве не были в войну в высшей степени
патриотическими? Более того, они стали как бы
музыкальными символами довоенной мирной жизни.
Фашисты, безуспешно пытаясь склонить в плен
защитников Бреста, их жен и детей, стараясь
обострить их желание жить, заводили патефон, и
вместе с «Катюшей» звучало и «Люба-Любушка,
Любушка-голубушка».
Из недавних писем Вадиму Козину от А. Иванова из
города Рубежное Ворошиловградской области: «Я прошел
всю войну — 22 ордена и медали. В самые трудные дни
Вы будили в нас чувство любви. Разгромленные фашисты
после войны не раз свидетельствовали, что кроме
оружия мы обладали превосходством души... Ваши песни
сопровождали нас на привалах, в блиндажах, а то и на
постах, прямо на переднем крае: нет-нет да и
замурлычешь, чтобы не уснуть... Накануне окружения
гитлеровской группировки под Сталинградом нас,
разведчиков, послали поглядеть — разведать, как
прочно сидит в земле румынская дивизия (в районе
станции Клецкая). Было морозно. Наш повар Вася
Краснопивец обещал помогать, отвлекая румын своим
пением. А голос у парнишки был неплохой, и он знал
много песен Козина. Вася старался вовсю и
действительно нам помог. Дважды он спел «Осень».
Выполнив задание, мы благополучно вернулись...».
Вспомним еще раз москвича Петрова, он тоже войну
прошел. Под Оршей его тяжело ранило в голову и в
живот, но и потом, после долгого госпиталя, он гнал
врага до границы.
— Я этого певца в душе нес. Это какой-то слуховой
гипноз. Я думаю, может, благодаря ему и жив остался.
Ведь я пел, и мне жить хотелось. Не просто выжить
или уцелеть, а Жить.
* * *
Подобные периоды обычно обозначают многоточием. Хотя
почему не сказать как есть: он был осужден. В
судьбах людей, в том числе и очень талантливых,
случаются срывы, заблуждения, роковые ошибки,
тяжелые болезни, приводящие к печальным и даже
трагическим последствиям. Оправданий за талант тут
нет. Но то, что этим талантом создано и нами
признано, то, что написано, изобретено, спето, —
разве это все уже не стало нашим достоянием и разве
не может служить нам и нашим потомкам, как служило
прежде?
В его положении оказывались и прочие незаурядные
личности, но они, многие, возвращались на родной
порог, в прежний круг друзей — снова пели,
конструировали, писали, возглавляли. Козин же в
середине пятидесятых годов, будучи свободен во всех
правах, решил остаться в Магадане. Он не знал, как
его встретят в Москве после долгих лет отсутствия
(перед войной он переехал в столицу), а к Магадану
привык, полюбил его.
Он остался здесь, и легальное забытье плавно перешло
в нелегальное полузабытье, как бы полузапрет.
* * *
Мы сидим друг против друга, я пытаюсь уловить, в
глухом голосе прежние звуки его песенного серебра.
Совместить молодой голос с нынешним обликом никак не
удается. Всё воспоминания он обрывает на войне, о
дальнейших годах, вплоть до нынешних, старается не
говорить: тяжело. Но я и без того знаю все.
Его поселили в бараке. Не пел. Руководил
художественной самодеятельностью, вечерами коротал
время в областной библиотеке, печатал на машинке
списки книг, составлял карточки, работал с
каталогами, отдал в библиотеку часть своих книг.
В ту пору прогорал, как никогда, областной
музыкально-драматический театр. С учетом
коэффициента зарплаты актеров здесь особенно велики
оказались и долги театра государству, они
исчислялись в миллионах. На сцене шли «Город на
заре», «Интервенция», «Оптимистическая трагедия»,
бушевали сценические страсти, а зал был почти пуст.
И тогда шли в барачный дом. Старик выходил на сцену,
садился за рояль, пел «Пара гнедых», и в зале
творилось невообразимое... Билеты продавали даже в
оркестровую яму.
Еще он пел «Нищую» Беранже. Помните, певица, бывшая
во славе, «лишилась голоса и зренья», и теперь
доживает век в нищете и одиночестве: «При счастье
все дружатся с нами, при горе нету тех друзей».
В Магадане еще не было филармонии, певца оформили
при театре. Много сил отдал главный режиссер театра
В. Левиновский, чтобы «пробить» выездные сольные
концерты Козина.
— Когда я приехал в Магадан, Вадим Алексеевич ездил
в сборных концертах. ...Сейчас таких певцов,
наверное, уже нет — высочайшая к себе
требовательность. Самоедство какое-то. Уже готова,
кажется, песня — все, а он — «нет», и работает до
изнеможения. Даже на репетиции не пел вполголоса.
Себя изводит и музыкантов тоже. Программа кончится,
он поет «на бис» столько, сколько просят, сколько
сил хватает. И знаете, чтобы он хоть когда-нибудь,
хоть раз рядился из-за денег — никогда.
Бессребреник.
К певцу возвращается молодость. Он исколесил Сибирь,
Дальний Восток, выступал на Камчатке, Сахалине, на
Курилах, в Приморье, Якутии, на Колыме. Он поет
перед оленеводами, рыбаками, рабочими, строителями,
моряками-подводниками. Он пел всюду, пел всем. Голос
вырвался на волю.
Он (один) вытащил областной театр из долговой ямы.
Николай Алексеевич Вертелецкий, магаданский таксист:
— Он у меня в машине пел — поверите? Сел,
спрашивает, давно ли я в Магадане. Ну, я ответил.
«О-о, — говорит, — это уже хороший срок. И я давно».
Тут только я узнал его и дал понять, что знаю. Он
улыбнулся: «Я раньше знаете как пел! Но не здесь, не
здесь...» С таким-то голосом, говорю, что ж не петь!
...И тут он запел! — Вот здесь, где вы сидите, мы
кинотеатр «Горняк» как раз проезжали. — О-о!.. Голос
чистый, мощный, я думал, машину разорвет.
Мне рассказали, как в одном из городов, где выступал
Козин, гастролировал прославленный московский театр,
чуть не сплошь состоящий из народных артистов. В
Москву, в Министерство культуры от театра полетела
телеграмма: рядом с нами выступает Козин, отбивает
всю публику.
Вероятно, это — легенда, но из тех, которые очень
похожи на правду.
Но в печати, на радио, телевидении имя певца
по-прежнему не упоминали. Как будто то, что не
названо, — не существует. Нет ничего более
дремуче-непроходимого и нет ничего более прочного,
чем нелегальный полузапрет. Не у кого спросить:
почему?
Анатолий Поликарпович Бабушкин, начальник цеха
радиовещания и звукозаписи областного радио и
телевидения:
— Вадим Алексеевич пел, и я старался всюду его
записывать. Но меня заставили все записи
размагнитить... Был тут у нас один дурак... Такие
редкие записи уничтожили!... А часть выкрали.
Елки-палки, ну? Слов нет. Теперь не вернешь. Знаете,
сколько старик дал Магадану, краю! Он столько
хороших песен написал о Магадане. Но главное — это
запас культуры, это бескорыстие в работе! Ведь
знаменитости к нам как относятся — провинция: три
ставки заплатите, приеду. И обязательно чтобы за
репетиции платили. Приехал к нам недавно знаменитый
бас, тоже романсы исполняет, собой любуется.
Музыкальный редактор — молоденькая, только-только
училище закончила — приходит ко мне: «Может, вы
примете запись?» Я говорю: «Нет, сами, без меня». Я
что — : технарь. Но правда — опыт, десятки лет здесь
до нее все записи принимал. Вышел я перекурить, и
тут в коридоре — наши знатные гости. Аккомпаниатор
спрашивает у баса: «Как думаешь, долго тут
провозимся?» — «Да не-ет, — отвечает, — тяп-ляп, и
все. Ты же видел, какой музыкальный редактор». Ах ты
елки-палки, думаю. Так обидно стало. Вошел в
аппаратную, говорю: «Я сам принимать буду». И я их
три часа гонял. А старика — жаль, вы видели, как он
живет?
* * *
Мы сидим в его квартире, на четвертом этаже, без
лифта. Маленькая, темная квартира петербургского
старьевщика. Все пылится, ветшает, рассыпается:
старые концертные афиши, на которых певец — молодой,
могучий; дореволюционного издания ноты романсов с
именами полузабытых авторов; старинные
энциклопедические книги по истории цыганских и
русских романсов; фотографии Вари Паниной, Анастасии
Вяльцевой, Юрия Морфесси, Веры Холодной, фотографии
отца и матери. Порядок здесь навести невозможно:
пианино занимает чуть не полкомнаты. Над пианино —
большой тяжелый микрофон еще военных времен, который
присоединен к такому же старому магнитофону. Лежат
на полке и две американские пластинки с его песнями,
старику прислали их года три назад, но он еще не
слушал их: нет проигрывателя. А магнитофонные
записи, все, что напел он за свою жизнь и что
удалось сохранить, — все то невосполнимое, чему
завтра не будет цены, все это лежит у него на кухне
(в комнате не уместилось) — преет, рассыхается,
умирает.
Его, доброго, как ребенок, и доверчивого, часто
обирали. Давно исчезла знаменитая бриллиантовая
звезда, серебро и мельхиор столового набора сменил
алюминий, и от старой петербургской библиотеки уже
немного осталось. У него было украли даже старый
магнитофон, но потом отыскался. Ценности он,
собственно, и не представлял, просто певец начал
набирать силу, и местные завистники терзали его.
В день семидесятилетия старику в Магадан пришли
горячие поздравления от Утесова, Шульженко,
Раневской, Товстоногова, Баталова, дочери Шаляпина,
дочерей и сына Сергея Есенина.
В этот день певец волновался как никогда. Старик
несколько раз бегал то в театр, где предстоял его
юбилейный вечер (как аппаратура, где будет микрофон,
как стоит рояль, откуда будет свет), то к себе на
четвертый этаж (благо его нынешний дом рядом), где
лежал отутюженный новый костюм. Наверное, как
полвека назад, он собирался выйти из дому, перекинув
через руку отполированные брюки. Но когда он перед
самым торжеством последний раз прибежал домой —
костюма не было. Кто-то выкрал. Он успел привести в
порядок старый.
Поистине, самая черная зависть — в самой маленькой,
провинциальной душе.
Теперь он на пенсии. Им пользуются иногда, чтобы
заманить на гастроли других знаменитых артистов (те
и приезжают часто с условием, что им покажут
Козина). Местные меценаты слово держат, просят
старика не отказать поглядеть на него. Козин для
Магадана, как для Ленинграда Эрмитаж. Знаменитые
писатели, ученые, спортсмены, художники, бывая в
этих краях по своим делам, тоже заглядывают
мимоходом полюбопытствовать на живой экспонат,
иногда поскорбеть. Иногда обещают, при случае, в
Москве замолвить слово. Потом они уезжают, а он
остается, снова никогда, нигде, никем не
вспоминаемый вслух.
Вадим Алексеевич и мне не поверил, что я приехал
именно к нему.
— Вы, наверное, в наш театр? — дважды спросил он.
Конечно, старику было бы приятно, если бы его
навестил кто-то из бывших друзей. Судьбе было угодно
распорядиться так, что на гастроли в Магадан приехал
известный аккомпаниатор, пианист-виртуоз, который
когда-то юношей из провинции осмелился войти в
гостиничный номер певца и просил прослушать его;
который играл по-ресторанному громко, но в котором
певец почувствовал музыканта и с которым начал
работать; с которым связали их потом долгие годы
совместной работы, небывалого успеха; который...
Короче, он не зашел к Вадиму Алексеевичу — этот
талантливый и очень осмотрительный человек.
— Я давно уже не выступаю. Но вам напою пленку, на
память, — говорит благодарно старик. — Я ведь, как
вы приехали, каждый вечер делаю эвкалиптовую
ингаляцию. Вот сегодня голос уже получше.
Каждый день он пробовал голос.
Прежде чем бережно убрать покрывало с крышки старого
пианино, прежде чем взять первые аккорды, старый
тенор надевает галстук...
* * *
Один, одинок. За ним присматривает Зинаида Веретнова,
соседка. Вечерами заглядывают друзья, немногие, но
верные, кто-то что-то разогреет на кухне, кто-то
поставит чай, помогают скоротать время.
Хозяин собой не очень занят, больше — кошками, их
две, одну когда-то подобрал больную, другую —
побитую, обе брошенные. Сейчас крупные, ухоженные,
красивые. Точнее, одна кошка — Чуня, а другой кот —
Бульдозер. «Мои дети», — говорит старик. Он
накрывает им стол рядом с собой, — вместо скатерти
стелет на ящик свои старые афиши, — они даже едят
по-человечески: из мисок лапами берут в рот.
— Ночью Бульдозер меня во сне двумя лапами обнимет,
а передними в грудь толкает: места ему, видите ли,
мало. Они так привыкли ко мне. Они, наверное,
думают, что я тоже кошка.
Когда старику грустно, он, отрешившись, обхватив
голову руками, сидит за столом. Сзади, на крышке
пианино, устраивается Бульдозер и тихо трогает лапой
плечо старика. Чтобы он очнулся, не грустил.
Когда-то у Бульдозера был прообраз. Где бы ни
выступал певец — на фронте или в тылу, перед
рабочими или руководителями держав, он ставил рядом
с собой на рояль маленькую резиновую серую кошку. Ни
единого концерта не состоялось без этого талисмана.
О причуде певца знал весь мир.
В 1943 году, в один из дней знаменитой Тегеранской
конференции, у Черчилля был день рождения. По этому
случаю пригласили на концерт лучших певцов мира,
отбирать их помогал сын Черчилля.
— Если вы сочтете нужным пригласить кого-то из нашей
страны, мы готовы... — предложил Сталин.
В ответ было названо имя Вадима Козина. Сталин
выразил неудовольствие, но согласился.
— Я обещал...
Об этой истории рассказал мне Юрий Борисович
Перепелкин, знаменитый ленинградский коллекционер
пластинок, яркий пропагандист старых песенных
мастеров. За подробности не поручусь, но сам факт
этот уникальный был. Певца под конвоем привозят в
Тегеран. Он выходит на сцену перед
высокопоставленнейшими особами, направляется к роялю
и ставит на крышку резиновую серую кошку.
Здесь же пела знаменитая до войны, к этому времени,
эмигрировавшая Иза Кремер. Она успела перекинуться с
Козиным: «Другого такого случая у вас не будет.
Подойдите к Черчиллю, хотя бы к сыну, попроситесь на
Запад. У вас будет все — и свобода, и деньги; и весь
мир — ваш».
Он отказался. О разговоре узнали, Козина сразу же
после концерта снова под конвоем увозят обратно.
— Когда-то, перед войной, — снова вспоминает Вадим
Алексеевич, — мы с Дунаевским были самые богатые
люди. — Вспоминает об этом устало-равнодушно.
Он читает всю центральную прессу, выписывает также
молодежные газеты всех республик (по ним следит за
современной эстрадой), иногда приобретает что-то из
музыкальной литературы. На день, я подсчитал, у него
остается в среднем по два рубля — на еду и одежду.
В середине дня мы выходим в магазин, он берет масло,
хлеб. «Рубль сорок с вас», — объявляет кассирша.
Старик протягивает ей рубль и отдает кошелек:
«Возьми сама, я плохо вижу». — «Вот видите, —
кассирша показывает монеты, — сорок копеек беру». —
«Ишь ты, взяла восемьдесят, а говорит, сорок», —
лукаво ворчит старик, все вокруг смеются, кассирша
улыбается, он, довольный, отходит. Потом ставит на
прилавок бутылки из-под молока, продавщица дает ему
рубли, мелочь. «Да отстань ты от меня со своей
мелочью», — старый петербургский аристократ
отворачивается и идет к выходу.
Его любят здесь все. И за бывший голос, и, еще
больше, — за обаяние и беспомощность.
* * *
Гордый старик ни разу не пожаловался на житье. «У
меня все есть». Что действительно волнует его, так
это безвинное забытье. Он даже всплакнул однажды,
вспомнив, как в юности расклеивал эстрадные афиши. И
еще волнует его то, что угасает, умирает старый
романс в его истинном виде. Взять того же
знаменитого певца - баса, который мимоходом пел в
Магадане. Вадим Алексеевич деликатнейше просил
романс «Ямщик, не гони лошадей» не объявлять, да еще
по телевидению, ямщицкой народной песней.
— Этот романс написала баронесса фон Риттер у нас
дома. Я ему сказал об этом - это был ответ на песню
«Гони, ямщик, скорее вдаль». Тогда были в моде такие
песни-ответы. Или, знаете, романс «Глядя на луч
пурпурного заката», так вот он, да и другие, поют
почему-то «Вы руку жали мне» вместо «сжали». Что же
он, ей весь вечер руку жал? Ведь дальше-то что идет:
«Промчался без возврата тот сладкий миг». Миг,
мгновение! Не только не чувствуют, но и не думают,
что поют. Этот бас грубоватый вообще-то очень. А
«Утро туманное» как поет? «Первая встреча, последняя
встреча». Да «встречи» же, загляни, прочти
Тургенева. «Верная-манерная» поют как цыганскую
песню, а она — русская, Воронежской губернии, она
только обработана цыганами. Разница есть? А
«Коробейники» слышали? «Распрями-ись, ты, рожь
высо-окая» поют громко, изо всех сил, голос
показывают, но ведь дальше-то: «Тайну свято
сохрани». Вот так всю тайну и разорали.
Мне не хочется расстраивать певца примерами более
грустными. Когда-то Вадим Алексеевич первым напел на
пластинку ставшую потом популярной «Калитку». Теперь
в Москве, в Центральном парке культуры и отдыха,
конферансье рассказывает пошлый анекдот, после
которого объявляет романс. Теперь, когда этот романс
поют женщины, никому даже не приходит в голову, что
он от мужского имени. И смешно, и грустно, когда
певица просит: «Не забудь потемнее накидку, кружева
на головку надень».
Правда, в творчестве певца был один случай, когда он
напел на пластинку романс от женского лица: «Ты
смотри никому не рассказывай». Он сделал это по
просьбе фабрики грамзаписи для Тамары Церетели,
чтобы показать, как надо петь цыганский романс.
Особенно опасно, когда песенное бескультурье несут в
массы популярные, талантливые певцы. Тут одинаково
опасно: дурное в хорошем и хорошее в дурном.
Особенно больно старику, когда старые песни
исполняются в модной, вульгарной (якобы современной)
обработке, убивающей образ и душу песни.
Это не только бескультурье, но и бесхозяйственность.
Это то же самое, если бы в Кижах разобрали крышу и
поставили «современную», сделали бы другие окна,
крыльцо, подъезд.
Певец не за песенную неприкосновенность, надо
помнить и петь старину.
— Но каждое новое исполнение должно быть лучше, а не
хуже первого.
Я прошу Вадима Алексеевича вновь поставить его
старые записи. Многие романсы, которые кажутся нам
многовековыми, рождались при нем. «Ехали на тройках
с бубенцами», «Только раз бывает в жизни встреча...»
— Это Борис Фомин написал, он мне еще
аккомпанировал...
Голос на пленке звучит медленно, совсем медленно,
серебро течет по капле.
— Я ведь пою так, как пели цыгане Толстому,
Тургеневу, Пушкину. Как пели в прошлом веке,— тихо
говорит старик.— Они же медленно пели, чтобы время
потянуть, выгадать: песен-то поменьше спеть, а денег
взять побольше. Да, сейчас так уже не поют, к
сожалению.
Да, не поют. Он — последний. Словно возвращает
звукам первоначальный смысл.
— Вы знаете... У Вари Паниной в Петербурге были
намечены концерты. Ажиотаж! Но только один или два
концерта всего состоялось, она заболела, уехала и
тут же, почти сразу умерла. И ни один человек не
вернул билет в кассы, ни один.
Старик не только поет, но и слушает себя особенно.
Опустив голову, он впадает в совершенное забытье, на
лице — скорбь. Не хватает кинооператора — заснять
его в эти минуты, увековечить. В конце концов, он
принадлежит не Магаданской филармонии, а русской
культуре.
* * *
У кинематографистов есть такой термин — «уходящий
объект». Когда фильм еще не запущен в работу, но
надо успеть, например, снять увядающую природу,
съемочная группа просит как бы в долг: «Прошу
разрешить снять уходящий объект в связи с тем,
что...» Это может быть уходящая осень, улетающие
журавли, отцветающий сад.
Режиссер ленинградец Владислав Виноградов снимает
выдающихся старых мастеров. В фильме «Я помню чудное
мгновенье», посвященном романсу, он снял Изабеллу
Юрьеву, Алексея Борисова, Утесова, Козловского,
Окуджаву. Из современных бардов режиссер замыслил
снять Владимира Высоцкого. Шла весна 1980 года.
Высоцкий тяжело болел, лежал в одной из московских
больниц, обещал, несмотря ни на что, приехать.
Режиссер задерживал фильм, представлял в оправдание
больничные листы певца. Наконец в апреле Высоцкий
прямо из больницы отправился в Ленинград. Из
рассказа музыкального редактора фильма Галины
Мшанской:
— Как он доехал — немыслимо. У него даже не было сил
голову помыть, мы помогли. Съемка проходила в БДТ.
Володя рассказал немного о себе, о товарищах и спел
«Кони привередливые». Съемка длилась всего двадцать
минут, с него пот лился градом. До вечернего поезда
у него не оставалось сил, мы отвезли его в аэропорт.
Он был совсем плохой, приехал только потому, что
обещал.
Через несколько недель фильм был готов.
Режиссеру приказали кадры с Высоцким немедленно
вырезать, а пленку — уничтожить.
Вся съемочная группа была в ужасном состоянии, перед
певцом стыдно, после этого смотреть в глаза
невозможно.
Смотреть в глаза не пришлось: через несколько дней
Высоцкий умер.
Это была его последняя съемка.
В следующем фильме «Я возвращаю Ваш портрет»
режиссер решил снять Вадима Козина. Ему запретили.
Режиссер нашел выход, попросил рассказать о Козине
Юрия Борисовича Перепелкина (В этом году исполняется
ровно 50 лет «Музыкальным средам», которые он
проводит у себя на квартире). В комнату, в коридор,
на кухню набивается до полусотни ценителей,
почитателей музыки: управление культуры
Ленгорисполкома за все годы не нашло возможности
выделить помещение. Лишь дважды за полвека
прерывались «Музыкальные среды»: Перепелкин воевал и
в финскую, и в Отечественную — с 22 июня и до 9 мая,
день в день.)
Конечно, Юрий Борисович с удовольствием рассказал
для будущего фильма о довоенных концертах Вадима
Козина, на которых посчастливилось ему бывать.
Но этот рассказ руководство Лентелефильма предложило
режиссеру убрать...
Даже в урезанном виде фильм долго пылился на полках
Центрального телевидения. Скончались, так и не
увидев себя в этом фильме, Леонид Утесов, Клавдия
Шульженко, Владимир Высоцкий (режиссер перенес сюда
кадры его последней съемки), конферансье Лев Миров и
Алексей Алексеев — старейшина эстрады, в фильме ему
96 лет.
...И журавли вновь прилетят, и сад зацветет снова, и
осень вернется. Это-то все как раз не уходит
навсегда.
Когда же собственная история, в том числе и история
культуры, чему-то научит нас? Когда научимся
воздавать при жизни?
Конечно, и у Козина есть вещи незавидные, и у
Высоцкого есть кое-что на потребу. Однако хороши мы
были бы, если бы судили о Пушкине по «Гаврилиаде».
Время неумолимо. Нельзя отменить Талант, как,
впрочем, нельзя назначить быть талантливым. Вот уже
сняты с пыльных полок фильмы Виноградова. Вот уже в
телепередаче «Песня далекая и близкая» ведущие В.
Левашов и Ю. Бирюков упомянули имя Козина, вот уже
упомянула его одна из центральных газет, вспомнили о
нем ведомственные журналы. Хлынули письма. «Уж не
тот ли Козин, который в 1938—1939 гг. приезжал к нам
в Архангельск? Успех был огромный, сходили с ума...
Е. Чернерицкий, инвалид войны, ветеран Черноморского
флота, г. Рига». «Отец погиб в годы войны. У него
была любимая песня - «Прощай, мой табор». Нельзя ли
ее исполнить по телевидению. Она напомнит мне о
любимом отце. Т. Сизова, г. Иваново». «У меня даже
дух захватило: неужели речь идет о прославленном
исполнителе старинных песен и романсов Вадиме
Козине? Как он сейчас живет?.. Ю. Соколов, г.
Пенза». Шли письма и самому певцу. Москвич Н. Рябков
отпечатал на машинке прямо на конверте: «Магадан,
Вадиму Алексеевичу Козину. Точно адреса не знаю,
уповаю на милость и мудрость почтовых работников
Магадана».
Стали понемногу петь козинские песни на эстраде кто
с упоминанием его имени, кто без. В фильмах стало
даже модным: чтобы показать атмосферу, дух
предвоенного или военного времени, использовать
мелодии Козина (конечно, без упоминания о нем).
Полузапрет сменила полулегальность. Ну, и, конечно,
за исполнение песен в кино, по телевидению, по радио
гонорар не платится. Не полагается. Платят только за
исполнение в ресторанах, на танцах, то есть там, где
слушатель (танцор) платит. Мне называли
композиторов, которые рассылают гонцов со своими
новыми песнями по ресторанам северных и
дальневосточных городов, там, где «заказчики» при
деньгах.
Музыку для ног писать выгодно. Много выгоднее, чем
лирику, симфоническую музыку, героические и
патриотические песни. Экономика обернулась
идеологией.
В системе всех стран, поставивших свои подписи под
Всемирной конвенцией об авторском праве, мы —
единственные не платим авторам за исполнение,
использование песен в кино, на радио, телевидении.
Руководство ВААП пыталось решить этот вопрос, но
Госкино и Гостелерадио каждый раз оказывались
сильнее.
За исполнение песен с эстрады переводы Вадиму
Алексеевичу помаленьку идут. Помаленьку. В ВААПе мне
сказали: случается, композиторы и поэты жалуются —
их, песни там-то и там-то исполняли, а переводов
нет; Почему? Система тоже примитивная: администратор
после концерта заполняет рапортичку. Впишет туда
песню — будет потом перевод, забудет или времени на
то не хватит — автор останется без денег. Для
современного модного композитора или поэта потеря
эта, впрочем, не так ощутима.
Любая перестройка начинается с перестройки сознания,
в котором духовность — далеко не на последнем месте,
и если подлинные ценности не находят себе места, то
вакуум неизбежно заполняется подделками.
Я знакомлю певца со своими записями, с таким трудом
добытыми во Владивостоке. Он внимательно слушает.
— А ведь это не я пою. Не я. Подделка. Вот настоящие
записи, смотрите,— он достает с полки два
американских диска с его песнями (до нашей пластинки
было еще далеко). — И вот какую рекламу они дали мне
на конверте: «Козин... сослан в Магадан на вечное
поселение».
Старик глубоко обижен.
Мы сами подарили Западу то, что принадлежит нам.
* * *
Время неумолимо берет свое, однако оно приходит не
само по себе. Время — не циферблат, время — это мы.
Сколько писали, добивались поклонники Козина, чтобы
имя его высвободить из небытия,— годы, десятилетия!
Вот что ответил недавно, в феврале нынешнего года,
Главный редактор Главной редакции музыкального
радиовещания Г. Черкасов на просьбу участника войны
Д. Дмитриева из Читы исполнить Козина по радио:
«Формируя репертуар музыкального вещания, мы исходим
из значимости того или иного музыкального явления...
Репертуар и исполнительская манера артиста многим
представляются старомодными и не имеют значительного
интереса для широкого слушателя».
Давняя, от века, милая черта российского
чиновничества: лгать правдиво не научились.
Другой почитатель Козина М.Мангушев из
Ростова-на-Дону (и финскую прошел, и Отечественную)
за то, что писал просьбы выпустить пластинку певца,
получил выговор... Он был тогда военнослужащим,
выговор через короткое время догадались снять, а он
по-прежнему продолжал хлопоты.
Главные его почитатели — участники войны. Сейчас
они, на расстоянии (и во времени — полвека, и в
пространстве — тысячи километров), поддерживают
артиста, шлют ему лук, чеснок, свежие огурцы,
апельсины, рыбу...
Он отвечает: «Спасибо, ничего не надо, у меня все
есть».
Москвич Петров, о котором шла речь вначале, который
на фронте пел Козина и ему «жить хотелось», прислал
певцу в Магадан новый магнитофон. (Артист им не
пользуется: больно для него сложен.) Поклонница из
Кустаная Евдокия Сергеевна Костырина (когда по
пыльной дороге грузовик увозил на фронт ее мужа, по
черному репродуктору на маленькой площади звучала
козинская «Осень»), попросила недавно у местного
цыгана, работающего в коммунхозе, фасон цыганской
праздничной рубахи. Сшила ее и отправила певцу —
красивую, васильковую. (Но певец ее не носит,
Костырина видела артиста только на довоенных
портретах — молодого, могучего, и невысокому
худенькому старику рубашка оказалась чуть не вдвое
больше.)
И Лидия Васильевна Поникарова, которая экономила на
школьных завтраках, чтобы купить билет на концерт
Козина, которая ездила даже в Орехово-Зуево и
которая в войну послала артисту шесть конфет
«Мишек», тоже не забывает своего кумира. Она шлет
ему конфеты, печенье, чай, кофе. «Не надо,— просит
он. — У меня все есть... Пришли мне лучше свою
нынешнюю фотографию: девочкой-то я тебя помню». Она
в ответ снова шлет конфеты, чай. «Пришли же
фотографию — какая ты сегодня?» — снова просит
артист.
И она наконец вложила в посылку фотографию: с нее на
певца смотрит девочка, медсестра фронтового
госпиталя.
...Все они оказались, достойными преемниками
поклонников Вари Паниной.
— Мы не оставим его,— говорила мне Лидия
Васильевна.— Если что... ну, вы понимаете, я уже
договорилась с одним магаданским летчиком, через
него я отправляю все посылки, я договорилась... если
что... в общем, он похоронит его как надо.
* * *
Мы сидим, пытаемся смотреть телевизор, но он,
старый, трещит, мигает изображение, пропадает звук.
Сердобольные поклонники в магазине предложили было
старику уцененный цветной телевизор за сто рублей,
но слишком уж был он поцарапан и ободран.
Размышляя о публичном одиночестве артиста, я думаю о
том, что в свое время он внес в государственную
казну больше, чем любой другой певец. Давая огромную
прибыль, он обходился государству дешево, у него не
было, скажем, оркестра, как у Утесова (пианист и
все), никогда не требовал никаких других расходов,
льгот...
Вспоминаю письмо Цветаевой Рильке: «Пастернак —
первый поэт России. Об этом знаю я и еще несколько
человек. Остальные узнают после его смерти».
Речь не о первенстве. О том, чтобы воздавать при
жизни.
Всю жизнь он был народным, но не стал даже
заслуженным.
Даже если бы сегодня организовать в Москве вечер
Козина — любой зал не вместил бы желающих. Он мог
бы, как никто, рассказать об истории и традициях
старого русского романса. А главное — он еще поет,
да — поет.
После недельной подготовки старик готов наконец»
напеть мне на прощанье небольшую пленку. Он
повязывает галстук...
Но забарахлил, загудел, засвистел вдруг магнитофон.
Старик разнервничался, дозвонился одному из своих
знакомых, тот приехал, оба долго возились, пока не
привели все в порядок. И уже и первом часу ночи он
снова сел за пианино. Серебро снова явилось к нему –
чистое и сильное.
Мы успели ещё раз послушать старые записи. Старик
сидел опустив голову. Устроившись рядом на пианино,
Бульдозер осторожно трогал лапой плечо старика,
чтобы он очнулся, не грустил.
Прообраз Бульдозера — маленький талисман, высохший,
потрескавшийся, смотрит из дальнего, пыльного угла,
комнаты.
Если бы эти впалые строки могли передать обаяние
старых мелодий! Сквозь переливы редкостного голоса
пробиваются все ближе шорох, потрескивание.
...Это нищая моя кормилица доклевывает последний
бумажный корм.
1986 г. |
|